Происходит ли это ощущение необычайной прелести и чистоты нового вида только лишь от сознания того, что тут до тебя еще никто не проходил, что нога европейца не ступала на эти берега, что ничей карандаш и инструмент ничего тут не записывал, не вычислял и не определял? Или на самом деле море так чисто оттого, что оно девственно: ведь тут на воде — ни пятна масла, ни грязи, ни дымка на горизонте, а на берегах ни фабричных труб, ни толп, ни крыш, и весь пейзаж полон чистоты, свежести и — чем, быть может, сильней всего захватывает он душу — могущества нетронутой природы.
Есть люди, которые боятся такой девственной природы. И есть люди, которые всю жизнь стремятся к ней, ценой неимоверных усилий строят первый дом на берегу, ставят первые знаки на мелях, их парус первый белеет в неведомых просторах.
Геннадий всю жизнь рвался к этой первобытной природе. Всю жизнь он провел в местах, где теснятся крыши, а думал о великих девственных краях.
И вот он там, куда стремился.
А на берегу, как и всюду от самого устья Амура, — ни следа, кроме птичьих и звериных. А если попадет длинный, с пальцами, так и то не человеческий, а медвежий. В углублениях, у камней, и в морщинах песчаного берега — гнезда гнилой морской травы и груды рыбьих костей, и кое-где на берегу целые черные копны, завалы старого, гнилого, словно обгоревшего и обуглившегося, леса, долго лежавшего в море и выброшенного в бурю, тенета блестящих свежих зеленых водорослей, в воде — пятна медуз, морские звезды, в воздухе — тучи птиц. А кругом — завалы гниющей рыбы и рыбьих костей. Эта рыбья гниль, подобно застывшей белой волне или валу, протянулась по всей линии прибоя под скалами и тянется вдаль, куда только хватает глаз. Кажется, что весь азиатский материк обведен этой полосой из рыбы, вываленной волнами на берег. И все это тянет к себе миллионы чаек и всяких птиц и зверей.
Лиса постоит, завидя матроса, как бы глазам не веря, что тут может явиться такой человек, повернется и ленивой трусцой поплетется прочь...
Среди лесистых сопок, скал и отмелей, заваленных гниющими богатствами, парусная шлюпка шла на юг, туда, где все шире пылал белый пламень заветного южного моря. При виде этого моря и от сознания того, что цель достигнута, радость овладела молодым капитаном и его офицерами и матросами, которые также много знали.
К вечеру начался дождь. На ночлег остановились на сахалинском берегу под маленькими сопочками в стойбище.
— Вы победитель! — говорил Грот. — Крузенштерн ошибся!
— Просто его больше интересовали острова Пасхи, — возразил Гейсмар, — океан и то, чем занимались ученые всего мира. Всегда будет много людей, которых острова Пасхи — далекие... прекрасные... будут манить...
Гейсмар сегодня серьезен.
— И мы с вами охотно бы пожили на тропических островах, — ответил капитан, — но их нет, если мы не знаем своей страны, если она пуста, не изучена.
— Геннадий Иванович, вы победитель! — твердил Грот.
«Когда-нибудь я тоже буду капитаном!» — мечтает Гейсмар.
— У вас мы учимся, Геннадий Иванович. Вашей школы я никогда не забуду, — сказал Грот.
Попов молчал. Уж очень он устал сегодня.
«Невельской своего добился, — думал он. — И как просто все получилось! А как готовились, искали... Делали покупки в Англии, сколько было тревог, разговоров. Видимо, при желании человек все может сделать. Все научились обходиться без услуг матросов и без крепостных, подвертывать портянки, чистить одежду, обувь, бриться, собирать дрова...»
Невельской пошел с Питкеном смотреть берега какого-то озера, оставив в деревне измученных офицеров и матросов. Утром решено было возвращаться на транспорт.
Офицеры заговорили об ответственности капитана за самовольную опись.
— Будут же карты, господа! — воскликнул Гейсмар. — Неужели не поверят?
— Стоит ли сейчас думать об ответственности! — сказал Грот, грея у огня босые белые ноги. Сейчас он очень досадовал, что допустил опрометчивость и сделал ложное заключение, что пролива нет. Но зато он первый нашел вход в лиман с севера.
Во всех этих офицерах из дворян Попов видел будущих важных сановников, которые, как всегда казалось штурману, попутешествуя с Невельским, потом сядут на тепленькие местечки в Петербурге и забудут свои собственные подвиги. Попов из простой семьи. Хотя, окончив штурманские классы, он потом учился всю жизнь, но знал, что ему как штурману, какие бы открытия он пи совершил, всегда быть «черной костью». Но сейчас он чувствовал что-то другое. Он был независим, возвышен...
Вернулся Невельской, снял мокрый плащ и присел на теплую глиняную лежанку.
— Будь у нас паровая шлюпка! — сказал капитан.
Матрос подал ему горячий ужин из дичи. Невельской ел с жадностью. Оказалось, что он поднимался с гиляком на сопку.
В другом углу юрты Питкен оживленно беседовал с хозяевами. Гиляк рассказывал, что это не рыжие, а лоча. Орочи рассказывали, что на днях судно рыжих ходило в море. Спрашивали, почему у этих лоча куртки, как у рыжих.
Юрта была большая. В ней всем хватило места.
С моря подул ветер, дождь сильнее застучал по крыше. Офицеры и матросы улеглись на нарах, соблюдая гиляцкий обычай — ногами к стене.
На днях Питкен объяснял, что такое же судно ходило напротив Сахалина и тоже палило. И что там у них много китобоев, что они иногда не могут обработать всех убитых китов, и все море покрывается жиром.
Они грабят деревни, подманивают и обманывают. Приходят за водой к деревням, а отбирают меха, шкуры, рыбу, бьют самих жителей.
У Питкена не хватало слов, он не мог сказать всего, но все эти дни, при каждом удобном случае, он все время твердил капитану одно и то же.
Ночью Невельской проснулся в палатке. Тихо разговаривали за ее полотнищем вахтенные. Море не плеснет. Тишина. Видимо, давление низкое, тучи.
— Иду я берегом, — говорил Иван Подобин, — мичман послал меня осмотреть кошку и лагуну за ней. Вдруг слышу, кто-то меня кличет: «Иван!» Я оглянулся — нет никого. Потом иду и все оглядываюсь. Вдруг вижу, из воды вылезло чудовище с усами, лев этот, что ль, сивуч ли. И внятно как рявкнет: «Иван!» По-русски! Право! Было тихо, скажи слово — у Сахалина слышно будет.
— И далеко она была? — спросил Конев.
— Кабельтов.
— Видишь. Они, значит, как попугаи.
— А вот крокодилы, — заговорил Алеха Степанов, — те молчат. Но твари, видно, хваткие. Зубастые. В Бразилии их — дивно! Говорят, есть в Питере, за деньги показывают.
— Надо сказать боцману, — продолжал Конев, — а то он все кричит: «Иван, Иван». А чудовища выучили. Еще капитана они передразнивать научились бы. А то он теперь, когда кричит — напрягается голосом, как каптэйн.
— Нет, это меня называл, — видимо думая про свое, сказал Подобин. — К добру ли?
— Что ты! Просто глупая рыба, говорит — не знает что.
— Нет, он так явственно позвал меня. И сразу скрылся. Я мог выстрелить, да мичман подумал бы — тревога. Что-то, значит, со мной будет.
— Рыба безобидная. Это не ворон. Кит плещется, такая сила в нем, а добрый. Слон тоже.
— Да-а... И такая земля, и столько моря, и все впусте лежит. Неужели Геннадий Иванович хочет, чтобы сюда по суше дошел народ?
— Внутре страны, если есть хорошая земля, то дойдет. Как же человек может жить на одной воде и на камне?!
— Земля, конечно, может быть.
...Утром Питкен увидел плывущее бревно и объяснил, что приходят суда, рубят лес, нагружают и уходят, оставляя палы, тайга горит, зверь уходит. А люди беззащитны. И что вот был тоже и у них там, на севере, большой корабль с пушками... Что в деревне на Сахалине есть гиляки, которые убили несколько китобоев, разграбили их вещи. Сначала разбили шлюпку.
Алеут Михаила, понимая Питкена, слушал его с тревогой в глазах. А потом, тоже не первый уже раз, сам рассказывал, как грабят и обижают население Командорских островов корабли, приходящие с моря... И то же самое на Алеутских. И тоже бьют китов, многих зря бьют, и мертвых китов море выбрасывает.
— Казалось бы, живут люди вольно и в свое удовольствие, — говорил Подобин, — а поди же!
«И мы не можем защитить ни Камчатки, ни побережий, ни островов, посылая по теории Нессельроде и Врангеля суда из Кронштадта. Гибнет население, богатства морей и стран...» — так думал капитан. Он не ждал ничего хорошего, никакого успокоения.
«Мы входим сюда, как в неизвестную страну, а ведь тут жили русские, и русские сражались за эту землю... — думал Невельской. — Эта страна была нашей и снова должна пробудиться».
Памятуя ночной разговор, он стал объяснять это матросам. Те гребли и слушали молча. Непонятно было — почему. Либо не верили, либо догадывались, что капитан все слышал.
Через неделю шлюпки подходили к транспорту.
Когда «Байкал» стал виден отчетливо, офицеры, наводя трубы, всматривались. Около судна кроме дежурной шлюпки, которая была ясно видна за кормой, стоял у трапа не то баркас, не то бот.
![Николай Задорнов - Первое открытие [К океану]](https://cdn.my-library.info/books/179537/179537.jpg)
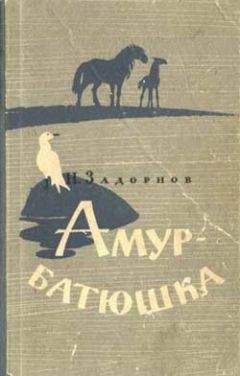

![Николай Задорнов - Первое открытие [К океану]](https://cdn.my-library.info/books/180259/180259.jpg)

